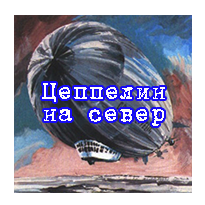Новые материалы
Писатель единой темы

В 1928 году в московском журнале "Народный учитель" были напечатаны очерки никому еще тогда неизвестного Тимофея Синицына — "Под вой пурги". В том же году они вышли отдельным изданием. Автор книги работал в ненецкой школе в Канино-Тиманской тундре. Учитель Синицын действительно писал строки своей будущей книги под вой пурпи в небольшой полузасыпанной снегом избушке, близ безлюдных берегов Ледовитого океана. Так что в названии книги не было ничего фигурального. Но все дело в том, что, работая над рукописью Синицын вовсе не думал о книге: учитель писал отчет о своей двухлетней работе в школе. Заведующий Архангельским губоно, получив необычный документ, отложил его в сторону с весьма примечательной резолюцией: "Я беллетристикой не занимаюсь". Учитель отнес рукопись в архив Комитета Севера с единственной мыслью: "Может, будут когда-либо писать историю советской тундры и наблюдения мои пригодятся". К счастью, люди здесь оказались более чуть ими к явлениям искусства. "Отчет" был отправлен в Москву и там напечатан.
Так учитель Синицын неожиданно для самого себя был "произведен" в писатели. В том же, 1928 году в Москве, в издательстве "Работник просвещения" выходит еще одна его книга "На Новой Земле", а через год "Молодая гвардия " издает повесть Синицына "Не по шаману", впервые подписанную псевдонимом Пэля Пунух. Затем в Архангельске одно за другим появляются в свет произведения Пунуха "Борька в тундре", "Девочка Савоне", "Новоземельские будни", "Пята тысячелетий" и ряд других.
Псевдоним писателя полностью отвечает духу его творчества. Не зная Пунуха, можно было бы подумать, что это писатель-ненец, ибо все его произведения посвящены одной теме— жизни ненецкого народа.
 Синицын Тимофей Петрович (Пэля Пунух) (1894-1971) Прозаик, журналист, педагог, первооткрыватель ненецкой темы в литературе Родился 3 марта 1894 г. в деревне Демидовской Шенкурского уезда Архангельской губернии. В 1920 - 1922 гг. был ответственным организатором ликвидации неграмотности, заведовал подготовкой педагогического персонала при Архгубоно, затем на журналистской работе. Осенью 1925 г. губернский отдел народного образования предложил Тимофею Петровичу поехать на Новую Землю и открыть там школу-интернат для коренного населения - ненцев. Он был первым педагогом ненецкой школы на Новой Земле и в историю ненецкого округа вошел как один из зачинателей народного образования. |
Но Тимофей Петрович Синицын родился и вырос в русской крестьянской семье. Родился он в 1894 году в деревне Демидовской Шенкурского уезда Архангельской губернии. Трех лет остался без отца. Матери будущего писателя Наталье Карповне очень трудно было прокормить шестерых детей. "До семи лет я буквально нищенствовал", — с горечью вспоминает писатель. Кто знает, как сложилась бы судьба мальчика, если бы не участие добрых людей. Семилетнего оборванца, удившего рыбу, заметил учитель местной школы, разговорился с ним, позвал учиться. Мальчик оказался на редкость способным учеником, поэтому после окончания "Школы грамоты" по совету того же учителя он продолжает учебу в Воскресенском двухклассном училище, расположенном в семи верстах за рекой Вагой. Огромная жажда знаний помогла юноше окончить не только это училище, но и выдержать конкурсные экзамены в Архангельскую учительскую семинарию.
С 1913 года Синицын начинает учительствовать, сначала в родных местах, а после Октябрьской революции в Архангельске.
В эти же годы он приобщается к литературному труду. На страницах газеты "Северное утро" печатаются его статьи. Большую поддержку и помощь начинающему литератору оказал редактор газеты Максим Леонович Леонов. После революции Синицын и сам некоторое время работал в редакции газеты "Трудовой Север". Переломным этапом в биографии Синицына, этапом, который предопределил его писательскую судьбу, явился 1925 год. В это время, когда по всей стране широко развернулась борьба за культурную революцию, Т. П. Синицын выехал на Крайний Север. Он был первым педагогом ненецкой школы на Новой Земле, учительствовал в тундровой школе в Пеше, потом в Тельвиске, близ Нарь ян-Мара.
Как же развивалось творчество Пэли Пунуха, в чем его своеобразие как писателя?
Прежде чем говорить о конкретных произведениях' Пунуха, хотелось бы отметить два общих принципиальных качества его книг. О жизни ненцев он пишет не как пришлый наблюдатель, собравший броский экзотический материал. О жизни ненцев Пунух пишет как сын тундры, как человек, не просто долго проживший среди северных кочевников и знакомый с их жизнью, а глубоко постиг ший все особенности их быта, верований, обычаев, психо логии, хорошо знающий думы и чаяния ненецкого народа. Это и делает Пунуха "своим", "ненецким" художником, выразителем вековых стремлений народов Крайнего Се вера.
И еще одна важная черта. Писатель рисует жизнь ненцев на великом историческом переломе, когда революция взломала старый, веками сложившийся уклад жизни и в суровой тундре стали развиваться ростки новых общественных отношений, медленно, но необоримо утверждаться социалистический строй.
1928— 1929 годы — время появления первых книг Пунуха — были, как известно, годами решительного наступления социализма, когда коллективные хозяйства стали возникать по всей стране и в том числе на берегах Ледовитого океана. Все это не могло не наложить своеобразного отпечатка на произведения Пунуха.
Конечно, далеко не сразу писатель сумел запечатлеть эти сложные социально-общественные процессы. Первые книги Пунуха — "Под вой пурги" и "На Новой земле" — еще не отличались единством идейно-тематического замысла и художественной целостностью. Это были собрания зарисовок различных примет новой жизни на Крайнем Севере, эпизоды из трудной работы первого русского учителя в ненецкой школе, удачно набросанные характеры ненецких детей. В книгах не было еще строго выраженного сюжета, да автор и не претендовал на художественную завершенность картин.
Серьезные слабости были присущи и повести "Не по шаману", в которой ставилась тема коллективизации на Крайнем Севере. В книге есть впечатляющие сцены острой классовой борьбы. Неплохо удались писателю отдельные образы, например, врага новой тундры тадибея Трифона Меркурьевича. Но в целом повесть получилась малоинтересной. К изображению будней первого колхоза автор подошел лишь в последних главах книги, основное внимание уделив показу той заседательской суетни, диспутов и споров, которые долгое время велись в рике и в местных партийных органах по поводу организации колхозов. Болезнь роста отразилась и на языке произведения, в нем еще преобладала газетно-очерковая манера письма.
Первым, по-настоящему зрелым произведением Пунуха явилась его повесть "Новоземельские будни". Автор со знательно отказался здесь от внешне занимательной фабулы и главное внимание сосредоточил на раскрытии внутреннего мира героев. Удачна система самих образов, их выбор, противопоставление девяностолетнего ненца Ефима Тайбарея, убежденного защитника старины, и его внука Яшки, познавшего в школе правду новой жизни.
Основное содержание повести сводится к тонкому пси хологическому показу новых отношений между дедом и внуком после возвращения Яшки из школы. Старый Тайбарей помолодел от радости, дождавшись возвращения внука. Два дня ходил улыбаясь. Но изменился внук. Многое стал понимать по-другому, не во всем соглашался со старой мудростью деда, с его пассивной моралью: "День придет — еду принесет". Хорошее перенимал, а птичью беззаботность деда отвергал.
Пунух очень верно показал в повести характерные тенденции в жизни ненецкого народа в период "великого перелома". Старое и новое живут рядом. Исполинское могучее дерево, уходящее корнями в пласты тысячелетий, исковерканное бурями жизни, и маленький, нежный, еще не окрепший росток. Корни у великана уже полувысохли, ствола коснулось тление, но он еще крепок, — росток мал и слаб, но у него молодые и сильные корни. Сломи росток — все равно пробьются новые побеги. И никакие силы не смогут остановить их роста...
Дед не любил ничего нового. Но он видел, как часто в своих поступках и советах внук оказывался правым. И незаметно для себя старый Ефим начал поступать так, как делал Яшка, потому что многие Яшкины советы при носили пользу.
Пуще всего в новых думах внука деду не нравились мысли об артели. "Артель русские выдумали, — размышлял Ефим, — чтобы забрать себе лучшие промысловые угодья". Но Яшка постепенно рассеял у деда страх и перед артелью. Яшка в школе учился. Он грамоту знает и считать умеет. Не обсчитают его "русаки". Да и председатель Новоземельского островного совета свой, ненец Тыко Вылка, о том же говорил. Сдался Ефим. Вступил в моржебойную артель. И рад был. Легче стало жить в артели, да и люди уважали Ефима за опыт и знания.
Умер старый Тайбарей членом коллектива. А Яшка уехал в Архангельск учиться, чтобы в тундре строить новую жизнь.
Повесть "Новоземельские будни" давала верный художественный слепок с жизни ненцев двадцатых годов. Книга подкупала своей задушевностью, лиризмом, способностью автора лаконично и просто показывать тонкие движения души. Писатель нашел верный стиль для изображения жизни еще интеллектуально отсталых, очень близких к природе кочевников Крайнего Севера, которые за частую жили только миром чувств и умели бесхитростно, но сильно выражать свои эмоции.
И все же, при всей поэтичности созданной картины, само это изображение казалось выполненным слишком облегченно, бестрагедийно, однотонно-светлыми красками. Столкновение старого и нового в действительности происходило не только в узкой форме психологического конфликта отцов и детей. Старое было тысячами нитей связано со всем вековым укладом жизни ненцев, с их обрядами. Нельзя было победить старое, не победив дикости и невежества кочевников, нельзя было построить новую жизнь в тундре без торжества новой культуры и новых человеческих отношений. Все это хорошо понимал пытливый художник Пунух. Вот почему в своих после дующих книгах он так настойчиво возвращается все к той же проблеме старой и новой тундры.
В 1931 году в Архангельском издательстве выходит из печати повесть Пэли Пунуха "Пята тысячелетий"несколько раз переиздававшаяся впоследствии. (Новое переработанное и дополненное и здание этой повести вышло в Архангельске в 1966 году под названием "Из-под пяты веков").Это наиболее драматичное и жизненное произведение писателя. Характерно, что внешне напряженные эпизоды охоты и промыслов, которыми увлекался автор в первых повестях, здесь почти совсем отсутствуют. Писатель ведет художественное исследование наиболее сложных и скрытых жизненных явлений, одновременно предельно упрощая фабульные связи.
В тундре необоримо утверждалась революционная новь. Но в то же время на ненецкой земле продолжали жить и старые хищники, так вольготно чувствовавшие себя здесь до революции. Они перекрасили свой фасад, они изменили повадки, ловко научились прятать свои истинные намерения и обходить законы, но паразитическое нутро у них осталось прежним. Только намеченные в повести "Борька в тундре" русские кулаки-промышленники в "Пяте тысячелетий" рисуются во весь рост. Они не кочуют в тундре. Они живут в деревне под боком у Совета и кооператива. Ведут себя скромно и тихо, но промысловиков-ненцев, приезжающих сдавать пушнину в магазин, ловко умеют улавливать в свои сети.
Приедет охотник-ненец из тундры, они встречают его: "— Иван Максимович — ты? Здорово, здорово! И суют руку. Он тоже сует свою руку. Говорит сдержанно, не показывая глаз:
— Ань дорово.
— Каково промышлял?
— Маленько промыслял.
— Давно ли из тундры?
— Сичас тольки...
— Надолго погостить в деревню приехал?
Иван Максимович с минуту медлит ответом. Смотрит направо, налево. Прищуривает лукаво глаза и по-ненецки спрашивает:
— Сярка таня? Янгу?
Хохот. Приятельское хлопанье по плечу. Лицо заговорщика и преданной собаки одновременно. — Ах ты, Иван Макоимович! Иван Максимович! Для кого сярки янгу, а для тебя, — друга милого, — завсегда скажу: "Сярка таня".
От глаз у Ивана Макоимовича остаются узенькие щелочки, а зубы соперничают в белизне со снегом. — Дась?— тихонько спрашивает.
— Не дам, как ежели за деньги хошь. А угостить, — кого и угощать, как не тебя? Душа мера; пей, пока видишь да можешь!"
И вот уже Иван Максимович сидит в цветастой комнате хитрого Никиты Шоркунчика, прозванного так за свое умение говорить без умолку, — "без останову", пьет чай и водку и играет с честной компанией в "двадцать одно". Пьет до тех пор, "пока видит да может", играет до тех пор, пока все наличные деньги и шкурки не перейдут в руки Шоркунчика и его компании...
Картины спаивания доверчивых детей природы — не новость в нашей литературе. Но в сценах, нарисованных Пунухом, есть одна примечательная особенность. Проигрыш и тяжелое безденежное похмелье для Ивана Максимовича вовсе не в тягость и даже не особенно его расстраивают. Он давно привык к этому. Недаром ведь и прозвище у него было — "Проигрыш". Иван Максимович уже сам искал встречи с "дружками", сам тянулся к водке и к опьянению азартом игры. Потому что в процессе этой игры он чувствовал себя равным с умными и сильными "русаками", он жил сознанием своего достоинства, с неменьшей жаждой, чем "сярку", он пил ту лесть, на которую не окупились его "дружки".
Это меткое наблюдение Пуну ха делает всю сцену еще более трагической, так как показывает, как ложь и обман уродуют человеческое сознание, извращают его разум и чувство. В конце концов смахнуть шоркунчиков и церковных старост, которые ловили в свою паутину темных ненцев, не так уж трудно. Труднее выпрямить душу самого Ивана Максимовича, исцелить его духовно, выдавить из него рабью кровь. Труднее победить старого человека в самом человеке, научить по-новому смотреть на мир.
Старая вера складывалась тысячелетиями. И ненец всегда привык жить традициями, верить только тому, что уходило в глубь веков. "То, что идет из потемок веков, — то крепко и сильно, как хад (пурга (ненец.)), как земля, как солнце. Держитесь за то, что идет из потемок веков, — знающие люди будете, сильные люди будете".
Иван Максимович Проигрыш тоже старался жить по завету отцов. Он бездумно принимал все то, чему учил его отец — старый ненец Максим Ванукан. Когда погиб в схватке с волками старший сын Максима, отец велел Ивану жениться на жене брата. Таков был обычай тундры. Иван покорился воле отца. Но жизнь с нелюбимой женой родила тоску, злобу, Иван стал часто пить "сярку", потянулся к картам. А однажды, в припадке опьянения, поверив грязным нашептываниям своих "дружков", что сын его Степан будто бы вовсе и не его сын, забил жену до смерти.
Реалистическая полнота изображения жизни в новой повести Пунуха заключается в том, что автор рисует не только непримиримые социальные конфликты, он их переплетает с обычными семейными неурядицами, с бытовыми трудностями, как бы выхватывая из самой действительности куски жизни.
Просветление Ивана Проигрыша трудно не только по тому, что он человек отсталый и невежественный, приход его к новой вере осложняется тем, что Иван, как и всякий ненец в тундре, испытывает влияние противоборствующих сил. Если общение с сыном, посещение школы, где учился Степан, редкие беседы с передовым ненцем Евстохием Лагеем были лучами света в темном сознании Ивана, то мрак в его мыслях поддерживали не только русские "дружки".
Новая жена Ивана, богатая молодая ижемка Хариеста, оказалась очень хозяйственной. Своенравная и неглупая, она быстро взяла Проигрыша в свои руки. А Степана невзлюбила. Мачеха добилась того, что отец не отпустил сына больше в школу, и взвалила на пасынка добрую половину тех дел, которые обычно выполняла тундровая женщина. А когда появился у Хариесты первый ре бенок, Степану совсем житья не стало. Ненависть мачехи к Степану родила неприязнь к сыну и у отца, ослепленного любовью к молодой жене. И эти новые отношения отца с сыном могли бы завершиться трагически, если бы так властно не наступала новь на заскорузлую пяту тысячелетий.
Как-то весной, охотясь в тундре, Степан спас тонувшего в озере ненца. Спасенный Василий Ледков безмерно был благодарен юноше и уехал на оленях в свой чум. Но, оказывается, Степан нарушил обычай тундры — не до конца спас Василия. По дороге домой Ледков "угодил в яму, еще раз выкупался в ледяной воде и до чума дотащился полуживой". Седой, как ягель, Николай Апицын вспомнил закон тундры: Степан сам должен умереть такой же смертью, от которой спасал человека, да не спас до конца. Иван Проигрыш не стал защищать сына — ведь он был теперь шаманом, и в его ушах еще звучали только что сказанные слова жены: "Не спорь со старикам и —богатство еще больше придет к нам в руки". Не будь советской власти в тундре — не избежать бы Степану жестокой казни. Только вмешательство учителя ненца спасло юноше жизнь.
Повесть Пунуха звучала остро современно, потому что ярко рисовала те цепкие корни прошлого, которые мешали неокрепшим всходам новой жизни. И показывая это прошлое, автор давал глубоко верное, философское осмысление жизненных явлений.
Нет, не Иван Проигрыш виноват в том, что он мог стать сыноубийцей. Не Николай Апицын виноват в том, что хотел погубить безвинного. И не вина Хариесты, что она такая бездушная и жадная. Главный виновник — та свинцовая пята тысячелетий, которая давит на каждого неграмотного ненца. Виновны старые обычаи, законы, порядки, они живучи и страшны, они сдавили, как обруч, сознание темных людей, ослепили их. Только свет, грамота, знания помогут ненцам победить тьму, помогут им самим осознать всю бесчеловечность старых обычаев.
В повести есть такая потрясающая сцена.
В чуме Ионы Выучея из костра отлетел на голову его жены маленький уголек. "И маленький уголек принес дикую, ужасную трагедию в семью Ионы. Иона, как истинный ненец, верил, что прыгнувший на его жену уголек говорит о неверности его жены. А по ненецкому обычаю полагалось бросить такую жену на том месте, где стоял чум, бросить ее на чумовище".
Так Иона и сделал, предварительно избив "неверную". Младшая дочь Выучея Марина вздумала вступиться за мать. "Она повисла на руке отца, силилась оттащить его от лежащей рядом с огнем и воющей матери. Иона ударил ее другой рукой по голове, и она упала рядом с матерью".
Но самое трагическое в другом."Мать Марины энает обычаи тундры. Она не протестует против них. Она принимает их, как месть злых богов, хотя и не знает за что. Она знает, что ничем не провинилась перед мужем, но думает, что провинилась в чем то перед богами. И вот боги бросили на нее уголь из костра. Она покорна воле богов. Она может ругать богов, плевать на них, но она не осмелится нарушить обычая, освященного временем тысячелетий".
Вот почему, когда через двое суток проезжал мимо брошенных на чумовище женщин ненец Максим Ванукан, мать Марины закричала ему:
" — Я — поганая. Ко мне не подходи. Девка — моя. Девка не поганая. Девку отец зашиб. Девка осталась со мной мертвая. Потом девка ожила. Девка — моя дочь, Марина. Возьми мою девку себе. Увези девку с собой. Моя судьба — издохнуть на чумовище. Ты увезешь девку с собой — это будет ее судьба".
Максим Ванукан — старый ненец. Он хорошо знал свое дело. Марина не была поганой. Он увез ее с собой. А мать Марины оставил на чумовище.
Через шесть дней проезжавшие мимо чумовища люди видели ее труп.
В повести это частный эпизод. Он занимает всего две страницы. Но сцена эта убедительнее многих простран ных рассуждений раскрывает ту страшную силу варварства, которая калечила жизнь ненцев в прошлом.
Особенно тяжелым в прежнее время было положение ненецкой женщины. Ненец-мужчина был "полным властелином над жизнью и смертью своей жены, как над жизнью и смертью любого оленя в своем стаде". На долю женщины выпадали все основные работы в жизни кочевников: заготовка дров, уборка чума, приготовлениепищи, нянчение детей, обработка шкур и изготовление одежды. Женщина не имела права есть, пока не насытятся мужчины. Женщину можно было продать, как оленя, можно было бросить, забить до смерти.
Одним из достоинств повести Пунуха "Пята тысячелетий" и является художественно яркий показ жизни тундровой женщины, которая была наиболее безответной жертвой пяты прошлого. Образы Марины Выучей, ее матери отлично написаны писателем.
"Пята тысячелетий" встретила хороший прием у читателей. Особенно высокую оценку повести давали люди, которые сами хорошо знали тундру и на основе личного опыта могли судить о верности созданных писателем картин. Книги Пунуха проникли и в тундру. Их читали в ненецких школах, на стойбищах, в чумах. Отношение самих ненцев к книгам было своеобразным. Если наиболее развитые и образованные из них, знакомые с законами художественного творчества, принимали произведения писателя целиком, то ненцы неграмотные, одобряя правдивость бытовых ситуаций, совершенно не признавали художественного вымысла.
"Во время одной из моих поездок в Нарьян-Мар,— вспоминает Пунух, — ко мне, пришли сразу четыре ненца, которые носили кличку "Проигрыш". Все они жаловались на то, что имя герою в книге я дал неправильно: ниодного из них не звали — Иван Максимович". В 1932 году с повестью Пунуха "Пята тысячелетий" познакомился А. М. Горький. Он написал теплое письмо автору. Горький писал, что книга ему понравилась, что часто, читая произведение писателей, рассказывающих о жизни малых народностей, не веришь им, а Пунуху веришь во всем. Горький отмечал мастерство писателя в описании бытовых сцен, в речевой характеристике персонажей и сделал некоторые замечания по языку повести.
К сожалению, подлинник письма не сохранился.
Но совершенно иной прием встретила книга у местной критики. В. Тучин в пространной рецензии разнес это произведение. Не понимая всей глубины идейного содержания повести, рецензент требовал показа "новой советской тундры, торжества советских обычаев над традициями веков". И эти демагогические указания дезориентировали писателя. Он переработал книгу. Она стала хуже. В ней зазвучали фальшивые ноты. В финале переработанной повести Иван Проигрыш перевоспитывался, хотя это перерождение, разумеется, не получило и не могло получить убедительной мотивировки.Для показа победы "новой морали, новых взглядов и порядков в тундре" Пунух не имел достаточного материала. Да такого материала не давала еще и сама жизнь.
Пэля Пунух покинул тундру в период ее мучитель ного освобождения от "пяты тысячелетий". Накопленные им наблюдения, глубокие и живые впечатления дали возможность Пунуху ярко раскрыть первый, наиболее драматический этап этого процесса; столкновение старой и новой жизни в тундре, но окончательного торжества новой тундры писатель еще не мог наблюдать.
Пунух мечтал написать книгу о преображенной тундре. Но в 1937 году по клевеническому доносу Пэля Пунух был репрессирован и надолго оторван от творчества.
Главной работой Пунуха в послевоенные годы явилась историческая повесть "Стрела восстании". Начал он писать это произведение все в те же весьма плодотворные для него тридцатые годы. Первые главы повести публиковались в 1932—1933 годах в журналах "Социалистический Север" и "Звезда Севера". Но завершена она была лишь тридцать лет спустя и в 1963 году вышла отдельной книгой в Архангельском издательстве.
"Стрела восстания" — своеобразный итог многолетних исканий художника в области ненецкой темы.
Действие в повести происходит в первой половине XVII века. В ней рассказывается об освободительной борьбе ненецкого народа против царских воевод, против бесчеловечной эксплуатации и притеснения. В основе повести — реальные события: взятие и сожжение ненцами Пустоозерского острога, убийство жестокого воеводы Федора Афанасьева. И хотя автор уходит далеко в глубь веков, содержание книги актуальное. Пунух обнажает истоки ненецкого национального характера, показывает исконно присущее этому народу свободолюбие, стремление к правде и справедлирости, чувство чести и человеческого достоинства.
Но самое главное — книга укрепляет чувство национальной гордости ненецкого народа, поэтически воспроизводя многие важнейшие факты его истории.
Пэля Пунух в "Стреле восстания" показал себя незаурядным мастером трудного литературного жанра — исторического повествования. Он живо и зримо сумел передать неповторимый колорит допетровской эпохи, своеобразие старинной жизни тундры. Действие в повести развертывается и за крепкими бревенчатыми стенами острога, и в старых русских жилах, в стрелецкой людской, и в боярской опочивальне, и в просторных домах посада, и в затхлых поповских покоях. Но, как всегда, основная арена событий в книге Пунуха — необъятные просторы тундры, где только небо и земля, земля и небо, и неизменное жилье кочевников — чум.
Сочность бытовых зарисовок, лаконизм и точность психологических наблюдений, правдивое изображение человеческих взаимоотношений, тесное переплетение трагических и юмористических сцен — вот те общие качества писательской манеры Пунуха, которые в этой повести проявились с особенной полнотой.
"Сто годов живет Сундей Тайбарей, а крепок еще, как зуб медведя белого. Взгляд, походка, речь— все у Сундея, как у молодого. Только вот голова подвела: побелела голова у Сундея, на кочку, ягельником обросшую, стала похожа. Ну, только не в волосах главное.
— Оленя, — roворит Сундей, — и того ценят не по во лосу: оленя ценят за то, как он в упряжке идет. А я? Разве можно с оленем равнять меня? Олень ничего не думает. Олень идет туда, куда его направит хозяин. Я — хозяин над оленями. Я сам себе путь выбираю. Оленя ценят по силе да по ходу в упряжке. Человека надо ценить по уму, по делам. Я обо всем за всю семью, за весь свой род сам думаю".
Самое сложное дело в несложном кочевом хозяйстве — уплата ясака. Мало того, — по две шкурки песцовых с каждого промышленника в объясаченной семье уплатить надо; надо царю и воеводе поминки справить. Ох, поминки, поминки!.. Крепко, до гробовой доски помнит о поминках каждый ясачный ненец! Сам помнит и детям своим рассказывает:
"— Одна беда наша — ясак платить. Поминки — подарки, кроме ясака, царю да воеводе справлять — две беды. Две беды да одна беда — всего под тремя бедами тундра живет. Да есть еще половина беды: угощать ясачного целовальника (сборщика ясака)— одна половина беды, другая половина беды — угощать стрельцов, что с целовальником в чумы приезжают..."
Так начинается повесть. И уже начальные строки за хватывают наше внимание не только тем, что автор сразу же раскрывает причины восстания — рисует условия, по родившие основной конфликт. Первая же страница повествования предопределяет то общее эмоционально при поднятое, былинно-сказовое звучание произведения, которое так удачно соответствует основному содержанию рассказа о героических делах ненцев в далеком прошлом.
Но это не просто старина и не героические деяния вообще. Это старина исконно северная, тундровая, это ратные подвиги страшно забитых и темных в прошлом кочевых народов, живущих своими особыми интересами, своими очень отличными от жизни других народов делами.
Любовно выписаны автором центральные фигуры повести— вожди восстания — столетний ненец, старшина карачеевского рода Сундей Тайбарей и его сын Ичберей. Удача писателя в изображении этих персонажей заклю чается в том, что при всей реалистической полноте и прав дивости их воплощения они в то же время романтически возвышены, овеяны легендарно-героическим пафосом. Эти люди очень далеких дней и очень далеких окраин Российского Государства в то же время близки и дороги нам, ибо автор сумел опоэтизировать их гуманные, высоко человеческие порывы.
Правда, характер Ичберея очерчен в повести гораздо слабее, чем образ Сундея. И объясняется это довольно просто. В центральных эпизодах книпи фигура Ичберея оказалась заслоненной колоритной и сочной фигурой старого Сундея, а сцены и картины, рисующие дальнейший ход восстания, написаны гораздо суше и лаконичнее, чем эпизоды, предваряющие восстание и рассказывающие о начальных эпизодах борьбы.
Есть в произведении и другие недостатки. Между шестой главой повести, в которой говорится о смерти Сундея, и последующими частями произведения явственно ощущается композиционный шов, вызванный тем, что авторскую работу между этими частями разделяет почти двадцатилетний перерыв. Видимо, этим объясняется и некоторая разностильность двух частей произведения.
Но составные части целого, отдельные ситуации, сцены и эпизоды написаны превосходно. Пунух умеет просто, интересно и правдиво рисовать картины жизни, картины, которые никогда не вызывают ощущения надуманности, фальши, натяжки, а это — в конечном итоге — самое важное в работе художника, ибо правдивость (а не правдо подобие!) диктуется только глубоким знанием жизни и точной поэтической интуицией автора.
Своеобразие предмета— ненецкий быт — порождает и своеобразие слога писателя: тяготение к коротким, выра зительным фразам, склонность к "вещности" письма, к предметной обрисовке явлений, к показу прежде всего движений и действий персонажей. Все это соответствует специфике мышления кочевников, их взглядам на окружающий мир. Бурное проявление страстей, быстрый переход из одного состояния в другое, чрезвычайно легкая эмоциональная возбудимость и сила реакции — все эти особенности психологического склада жителей тундры живо воссоздаются в бытовых зарисовках автора.
Часто и охотно использует Пунух прием контраста. Это очень распространенное средство и в фольклоре народов Крайнего Севера. По принципу контраста рисуются Сундей и стрелец в сцене их единоборства ("Длинен, угрюм, силен и черен был стрелец", Сундей — сед, мал ростом, очень широк в плечах; в бой он вступил с шуткой); по принципу контраста рисуется картина встречи в покоях воеводы отвратительного внешне Федора Афанасьева ("Федор Афанасьев был волосом рус, лицо имел красное, на голове малую плешь, а глаза, как у рака") и красавицы Нетолы, причем противопоставляется не только их внешний облик, но и цинизм, грязное распутство одного и высокая нравственная чистота, целомудрие другой. Наконец, контрастно противопоставлена друг другу вся система действующих лиц повести: воевода, стрельцы, толмачи, духовенство — с одной стороны, и ненцы и бедные русские — с другой.
О связи повести Пунуха с фольклором свидетельствует и тяготение автора к таким излюбленным устно-поэтиче ским средствам, как сравнение и олицетворение. Сравнения у Пунуха поэтичные и выразительные, тесно связан ные с особенностями восприятия и жизненным опытом жителей тундры: "Глаза у Сундея задернулись туманом горечи, как горячий уголь пеплом". "Лайкой, сбивающей в круг оленей, метнулась Нетола к стенам острога". "Сердце у Ичберея билось, как у оленя, завидевшего волка". "Быстро, как ласточка, промелькнуло полярное лето". Олицетворения особенно часто автор использует при описании природы. Поэтому она у него живет многочувственной жизнью. Это тоже обусловлено своеобразием восприятия природы ненцами.
"Когда замахали прозрачными крылами южные ветры и снега начали плавиться под солнцем, подсчитали отец с сыном свой зимний промысел"."От Пустоозерского острога и до самого моря разбро салась Печора-река на рукава. Рукавами, как руками, нежно обнимала река острова, ею же самой рожденные"."Ноябрьский день быстро укорачивался: ночь обгрызала его с обоих концов. И к половине ноября уже не было солнца. Но сумрачный день еще оставался. Потом и сумерки проглотила ночь. Ночь закрыла все: землю и море, зверей и людей, дома и горы".
Иногда сравнения и олицетворения сливаются воедино, образуя еще более сочные краски: "Свирепее тысячной стаи волков выла хад в эти дни".
Писатель умеет точно передавать и особенности ненецкой речи и отличительные оттенки речи людей приказных, сановных, духовных. Хорошо владеет Пунух и такой трудной стилистической формой, как внутренние монологи персонажей. Именно таким приемом наиболее полно раскрывается нравственный мир старого Сундея, его мысли и думы, мечты и стремления, начиная с первой процитированной страницы и кончая монологами его перед смертью. В этих монологах — весь Сундей с его простой, но в то же время напряженной эмоциональной жизнью, с глубокой житейской мудростью, со своеобразным ненецким видением и пониманием предметов и явлений.
Вот как думает Сундей о своем сыне Ичберее: "...Ты хороший сын, Ичберей. Ум твой острее того ножа, что носишь за поясом. Мысль твоя в полете быстрее стрелы, что пускаешь из своего лука. А стрела твоя догоняет всякую летную птицу. Пусти теперь мысль свою летать. После скажешь мне, хорошо ли я надумал — сказать про стрелу..."
Все эти особенности художественной формы повести и придают ей то внутреннее свечение, которое всегда отличает подлинное явление искусства от унылой серописи.
В 1964 году общественность Архангельска отмечала семидесятилетие Пэли Пунуха. В своем приветствии юбиляру правление Союза писателей Российской Федерации назвало его "певцом ненецкого народа". Эту высокую аттестацию первый художник советской тундры заслужил всем своим творчеством.
Глава из книги Ш. Галимова "Чувство времени" 1966 г.